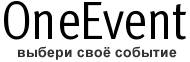Поэзия труверов приучила к психологической вдумчивости и к личным поэтическим исканиям. На почве её народился особый класс мастеров литературного дела. Рядом с этим возник и рыцарский идеал. Более утончённый вкус общества не удовлетворялся более чисто воинским содержанием chanson de geste. Кроме доблести, верности сюзерену и покорности церкви стали требовать от героя ещё куртуазности, то есть светскости и возвышенности чувств. Герой должен был обладать и известным образованием. Так как наука о куртуазности сосредоточивалась в поэзии, куртуазный герой не должен был чуждаться и её. Сообразно этим требованиям изменился и женский идеал. Женщина стала царить; она явилась судьёй мужских достоинств и источником всех благородных порывов. В любви к даме проявляется куртуазность. Кто не любит и не служит даме, тот жалкий виллан (vilain). Этот новый рыцарский идеал проведён с особой силой в романах Кретьена де Труа, также принадлежавшего к кружку Марии Шампанской. Роман, как особый вид поэтического творчества, не был скован установившейся традицией, подобно chanson de geste. В нём было больше простора для введения куртуазных эпизодов. В основе его лежали преимущественно любовные сюжеты. Отдельные подробности рассказа могли подвергаться разносторонней обработке без нарушения основной схемы. Сюжеты рыцарских романов были в высшей степени разнообразны. В значительной степени их доставляла классическая древность и поздняя греческая письменность. Для королевы Алиеноры каким-то неизвестным поэтом пересказана была в стихах «Энеида» («Роман об Энее»). Другой поэт из западной Франции переделал «Фиваиду» Стация, под названием «Роман о Фивах». Особенный успех имели в Средние века «Роман о Трое» и Псевдо-Каллисфенова книга об Александре Македонском. Эта последняя, переведённая в IV в. Юлием Валерием на латынь, легла в основу полуфранцузской, полупровансальской поэмы Альберика ещё в конце XI в. За ней следовал целый ряд «Александрий», облетевших весь образованный мир и имеющих длинную международную литературную историю. В средневековой Франции в ходу были две «Александрии»: короткая, так называемая «десятистопная Александрия» и роман об Александре, огромная компиляция, принадлежащая перу целого ряда поэтов: какому-то Симону, Александру Парижскому, Эсташу и др. Роман об Александре написан двенадцатистопным стихом, получившим отсюда название «александрийского». «Роман о Трое», где рассказывается о падении Трои, послужил сюжетом нормандскому поэту Бенуа де Сент-Мору. Здесь, как и в «Александрии», ничего греческого уже не осталось. Действующие лица изображены совершенно так, как будто бы дело шло о баронах тогдашней Франции. Эта черта ещё усиливается в «авантюрных романах» (romans d’aventures). Так называются романы, главное содержание которых составляют приключения двух любящих, разъединённых превратностями судьбы и в конце романа вновь отыскивающих друг друга. Эта тема, излюбленная в греческих романах, привилась и во Франции. Ей посвящён прелестный рассказ неизвестного поэта из Пикардии об Окассене и Николетте, написанный искусно чередующимися стихами и прозой. Несколько раньше та же тема изложена была в различных редакциях двумя неизвестными поэтами в форме романа: «Флуар и Бланшефлор». Сюда же относятся первый роман Готье из Арраса «Ираклий», «Коршун» Жана Ренара, анонимные романы «Guillaume de Palerme», «Амадас и Идуана» и др. Классические имена встречаются и в других романах, построенных уже на так называемых бродячих темах, встречающиеся в повествовательном достоянии всего человечества. Так, античный сказочный сюжет о Психее лёг в основу одного из лучших авантюрных романов: «Партонопей Блуаский». Этот роман служит продолжением романам Гуона де Ротеланда «Ипомедон» и «Протесилай». Кретьен де Труа Античные и полуантичные сюжеты, которым дань отдал и сам Кретьен де Труа (например, в «Клижесе»), бледнеют, однако, перед другой серией повествовательных сюжетов, шедших уже не с Востока, не из греческих источников: это романы «бретонского цикла». Когда в XI в. романизованные норманны поселились в Англии, они были поражены музыкальностью поэзии бретонских, или галльских, певцов, распевавших под аккомпанемент своих маленьких арф (rotes), особые песни — «лэ» (lais bretons). Содержание их составляли пережитки национального бретонского эпоса, воспевавшего борьбу с саксами в V и VI вв. Центральным героем этого эпоса был полководец Артур, превратившийся впоследствии в знаменитого короля Артура. Скоро подобные лэ стали слагать и по-французски. До нас их дошло около двадцати; из них пятнадцать приписываются поэтессе Марии Французской, жившей при дворе Генриха II Плантагенета. «Лэ» Марии поют о различных приключениях рыцарей. Эти и подобные приключения и были разработаны в романах Кретьена де Труа: «Эрек и Энида», «Ланселот, или Рыцарь телеги», «Ивэйн» и многих др. Они всего лучше подходили для обрисовки куртуазного рыцарского типа. Почти такой же славой, как Кретьен де Труа, пользовались и позднейшие поэты — Рауль де Удан, Гильом Леклерк и неизвестный автор «Chevalier às deus épées». События, рассказанные во всех этих романах, откуда бы ни черпались они, неизменно связываются со двором короля Артура, основателя Круглого стола. Бретань и Англия стали обетованными странами рыцарских подвигов, любовных приключений и фантастических происшествий. Артур при этом считался историческим лицом. Его сказочную историю, черпая то из Ненниевой «Истории бриттов», то из других источников, рассказал в середине XII в. Гальфрид Монмутский; его «История британских королей» написана по-латыни, но четыре раза была переведена на французский. Самый известный перевод в стихах принадлежит уже упомянутому Васу, жившему также при дворе Генриха Плантагенета. В стороне от двора Артура происходит действие только в одном знаменитом романе о Тристане и Изольде. Отдельные эпизоды из этого романа издавна служили темами бретонским «лэ». В одно целое собрал их впервые Беруль. Роман Кретьена де Труа на эту тему до нас не дошёл. Только отрывки дошли до нас и из «Тристана» англо-норманнского поэта Томаса, Любовь Тристана и Изольды, как и тайная связь Ланселота и Гиневры, жены короля Артура, в глазах средневекового общества считалась высшим художественным выражением любовного идеала, а рыцари Круглого стола представлялись совершеннейшими воплощениями доблести и куртуазности. Особую струю внесли в рыцарский идеал сказания о св. Граале. Герой их, Персеваль, воспринял ту христианскую идеализацию рыцарства, которая, под влиянием крестовых походов, наслоилась на жесты. Учение о св. Граале, с его восточным мистицизмом, сделало рыцарей служителями церкви и даже выразителями христианских добродетелей. Сказания о Граале составляют особый цикл романов, тянущийся от «Персеваля» Кретьена де Труа через его продолжателей — Гошэ, Меннесье, Жербера из Монтрейля — до Роберта из Борона. Ему принадлежит трилогия: «Joseph d’Arimathie», «Merlin», «Perceval». За ним следуют огромные прозаические компиляции, приписываемые Вальтеру Мапу, Гасу ле Блон и Ели, называвшемуся также де Борон. В центре их стоит «Quête de st. Graal». Все отдельные эпизоды подвигов рыцарей Круглого стола сведены здесь вместе. Эта искусственная поздняя рыцарская эпопея была закончена около 1250 г., но долго ещё древние кельтские сказания о короле Артуре, кудеснике Мерлине и рыцарях Ланселоте, Тристане, Гавэне и др., вобрав в себя множество рассказов, вывезенных с Востока, подслушанных в сказках и вычитанных в старинных хрониках, продолжают тревожить воображение читателей всех национальностей и всех классов общества.