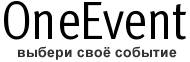Продолжая традицию века Людовика XIV, век просвещения был его полной противоположностью. «Дух законов» Монтескьё часто сравнивали с «Опытами» Монтеня; но предвестник морально-психологических запросов XVII в. интересуется исключительно внутренней духовной жизнью личности, а великий социолог XVIII в. целиком поглощён широкими проблемами общественности. Все размышления Монтескьё сконцентрированы около вопроса о выработке конституции, основанной на уравновешении властей законодательной, судебной и исполнительной. Гельвеций вовсе даже отрицает психологию и мораль; воспитание, по его мнению, определяет все душевные склонности человека. Католицизм в XVII в. казался незыблемо установленным, и неуважение к нему считалось таким неприличием, какое может себе позволить лишь крайне неблаговоспитанный человек; в XVIII в. «философы» царят во всех литературных и светских гостиных Парижа — у г-жи де Ламбер и у г-жи Тансэн, у г-жи Жоффрэн и позднее у г-жи де Неккер. Публицистические сочинения Вольтера, Дидро, д’Аламбера и Гольбаха воспитывают общество в свободомыслии. Оно сказывается и в поэзии: таков посвящённый папе «Магомет» Вольтера, таковы же его «Философские повести и рассказы». Цензуру парламентов презирают; её научаются обходить. Радикальное различие обоих веков классического периода Ф. литературы, однако, скорее кажущееся, чем действительное; между обоими веками существует глубокая связь даже с точки зрения господствующих в том и другом идей. Свободомыслие и стремление к политическим реформам, проходящее красной нитью через всю литературу XVIII в., зиждется на том же рационализме, какой мы видели у мыслителей века Людовика XIV. Религиозное сознание Ф. общества окончательно расшаталось под влиянием долгих споров янсенистов и иезуитов. К материализму вёл не только сенсуализм Локка: к его усвоению в значительной степени подготовил почву « Исторический и критический словарь» (1697) Бейля (1647—1706). Неверие уже тлело в XVII веке. Сожжение Ванини, процесс Теофиля, эпикуреизм Гассенди, кружки так называемые «libertins» — наглядные признаки постепенного скрытого роста свободомыслия. «История оракулов» (1687) Фонтенелля давала рационалистическую оценку всему сверхъестественному. Если расстройство финансов королевского правительства, его беспомощность и завистливое отношение ко всему живучему и дееспособному были прямым последствием наружного блеска единодержавия Людовика XIV, то и симпатии к английской конституции слышатся гораздо раньше, чем начинается влияние английской литературы. Ещё Фенелон мечтал о правительстве, в котором король «был бы всемогущим на добро и бессильным на зло». Английские порядки особенно восхвалялись протестантами. Письмам об Англии Вольтера предшествовали «Lettres sur les Anglais, et les Français» швейцарского пиетиста Мюра. С 1724 г. они были распространены и во Франции. Их упоминает Руссо в «Новой Элоизе». Когда материалистический рационализм нашёл себе почти поэтическое выражение в огромном научном предприятии Бюффона, когда Дидро удалось-таки довести до конца энциклопедию (см.), полную победу торжествовали идеи, расцвет которых подготовлялся издавна. Даже вера в прогресс человечества, впервые выраженная в «Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain» Кондорсе, уже проходит, как основная мысль, через весь спор «древних с новейшими». Новую жизнь во Ф. рационализм влил с первых же шагов своей писательской деятельности Жан-Жак Руссо. Вместе с Мабли он может быть назван пророком и создателем основных общественных запросов XIX в. Всесильная к концу XVIII в. буржуазия осуществила свои политические вожделения, но вслед за этим возник социальный вопрос, в наши дни стоящий во Франции на очереди. Уважение к человеку простому, стоящему ближе к природе, и преклонение перед природой, как основным источником всей эстетической деятельности человечества, были результатом влияния того же Руссо. С самого начала XIX в. они составляют точку отправления всех художественных исканий и вдохновений. Сообразно им изменяется и литературная теория. Пророческими оказались слова Дидро: «Когда народятся поэты? После времени погромов и великих несчастий, когда ошеломлённые народы начнут дышать. Тогда воображения, потрясённые ужасными событиями, изобразят вещи, неизвестные ещё тем, кто не был свидетелем этих зрелищ». Романтизм В 1800 г. вышел трактат г-жи де Сталь: «De la littérature considerée dans ses rapports avec les con stitutions sociales», в 1801 г. — «Atala» Шатобриана, в 1802 г. «Delphine» г-жи де Сталь и «Génie du Christianisme» Шатобриана. Все эти произведения, с одной стороны, воплотили в себе новые идеи, возникшие во Франции в конце века Просвещения, а с другой, положили художественную основу Ф. романтизму. Г-жа Сталь стоит ещё как бы на рубеже двух литературных поколений; Шатобриан, по словам Теофиля Готье, может быть признан предком романтизма во Франции. У обоих этих писателей сказывается та широта эстетических воззрений и интересов, которой был ознаменован период бури и натиска в немецкой литературе. Шатобриан освоился с английской поэзией в годы своего изгнанничества; г-жа Сталь в своей книге о Германии (1810-13) заканчивает процесс проникновения во Францию произведений корифеев немецкой современной поэзии. В 1823 г. предисловие к «Muse française» уже объявляет, что будет знакомить читателей и с иностранной словесностью, так как «узкий патриотизм в литературе есть остаток варварства». Под напором новых художественных впечатлений начинает колебаться мнение критиков: Жоффруа не понимает Шекспира, но отрицательно относится к Вольтеру; Фонтан поощряет Шатобриана; Бональд приветствует журнал братьев Гюго «Le Conservateur littéraire». Интерес к Средневековью возникает сначала в виде genre troubadour, в трагедии Ренуара «Les templiers» (1801), Крезе де Лессера в «Les chevaliers de la Table Ronde» (1812), «Amadis de Gaule» (1813) и «Roland» (1814), y Мильвуа. Романтический характер он носит у Виктора Гюго в «Notre Dame de Paris» (1831) и позднее в драме «Burgraves» (1843) и «Légende des siècles» (1859). Возникает и более вдумчивое, уже не заслонённое рационалистическими парадоксами отношение к религии. Хотя Шатобриан в своём «Гении Христианства» отвлекается постоянно в сторону от основного замысла, тем не менее мысль о возвеличении веры все-таки стоит в центре почти всех его сочинений. В начале XIX в. такие писатели, как Жозеф де Мэстр и Ламенне, обращают на себя внимание всех начинающих литераторов. Особенно близко ответил настроению трактат Ламенне о «Религиозном безразличии». Оживившаяся религиозная эмоция сказалась, прежде всего, в поэзии («Méditations» Ламартина). Вера романтиков была чувством тревожным, ищущим. Она исходила из общего поворота в сторону всего сверхчувственного как в духовной жизни человека, так и в окружающем его мире. Отсюда та неопределённая грусть и мечтательность, та особая страстность, уже не ограниченная более, как у Руссо, рассудительностью, которая составляет главное содержание «Atala» и «René». От Шатобриана романическая грусть переходит к Ламартину, а у Мюссе и у Альфреда де Виньи, обновившись байронизмом, принимает характер мировой скорби. При подобном направлении мыслей естественно возродился лиризм. В период господства рационализма выражению заветного личного чувства не могло быть отведено достаточно простора; теперь субъективизм вступает в свои права. Отсюда небывалый ещё во Франции расцвет лирической поэзии. В первой половине XIX в. Франция насчитывает целую плеяду поэтов. Кроме названных корифеев, выдаются Антони Дешан (1800—1869), автор «Derniè res paroles» (1835) и «Résignation» (1839), Жозеф Делорм (Сент-Бёв), написавший «Consolations» (1839), Теофиль Готье, Жерар де Нерваль (1808—1855), Огюст Барбье (1805—1882), лучшей вещью которого остаются «Ямбы» (1830). Романтизм проникает и в провинцию; здесь слышатся свежие стихотворения бретонца Огюста Бризе (1803—1858), вдумчивая лирика Виктора де Лапрада (1812—1883) и Эжезипа Моро (1810—1838). Г-жа Аккерманн по своим философским воззрениям принадлежит уже к следующему поколению. Поэты, группировавшиеся около Виктора Гюго, любили сравнивать себя с Плеядой. Им нравился более свободный, ещё не обедневший в силу теорий Малерба язык Возрождения. Критик романтического направления, Сент-Бёв, описал в этом смысле XVI в. во Франции (1828). Субъективно-лирический характер носит и роман того времени. За «Corinne» (1807) г-жи Сталь и «Obermann» Сенанкура (1770—1846) идут «Adolphe» (1816) Бенжамэна Констана, «Confession d’un enfant du siècle» (1836) Мюссе и, наконец, серия романов Жорж Санд, начинающаяся с «Indiana» (1831). Субъективизм романтиков не надо, однако, смешивать с индивидуализмом. Выливая либо в форме рассказа, либо в форме чисто лирических образов ощущения и думы, выношенные в сокровенных тайниках своего «я», романтики были выразителями всех разнообразных запросов своего времени. Виктор Гюго писал в предисловии к своим «Contemplations» (1856): «Иногда слышатся жалобы против писателей, говорящих: я. Говорите нам о нас! — требуют от них. — Увы, когда я говорю вам о себе, я, в сущности, говорю о вас». И действительно, литература первой половины XIX в. была литературой общественной. Ни строгий наполеоновский режим, ни цензура Реставрации не могли остановить общественных запросов времени. Развившаяся во время революции повременная печать и её душа, публицистика, начинают стоять в самом центре всей умственной жизни. Вопросы общественности проникают и в поэзию. В этом отношении даже песни Беранже, хотя он вовсе не принадлежал к романтикам, оказываются отвечающими взглядам трактата «О литературе» г-жи Сталь. Виктора Гюго часто называют поэтом-публицистом; такой характер носят его «Odes» (1822), «Rayons et ombres» (1840), «Châtiments» (1853) и др. Только позднее, с проникновением во Францию немецкой эстетики, поэзия романтиков обособляется от жизни, становится строго артистической. Этому способствует философия Кузена. Только тогда входит в литературную жизнь теория искусства для искусства. Одним из основателей этой артистической и замкнутой поэзии был Теофиль Готье. За ним идут Теодор де Банвиль, Леконт де Лиль и Бодлер. Это уже последние романтики; после них начинается упадок поэзии. Она становится холодно описательной; особое внимание обращается на отделку внешней формы. Новая группа поэтов издаёт сборники под заглавием «Le Parnasse contemporain» (1866, 1869 и 1876). Её ядро составили многие из ещё живых поэтов: Гередиа, Мёнар, Франсуа Коппе, Огюст Вакри, Катюль Мендес, Леон Дьеркс, Сюлли Прюдом, Анатоль Франс и др. К поэтам-парнасцам принадлежали в молодости Верлен, Малларме и Вилье де Лиль-Адан, впоследствии основавшие новейшую символическую поэзию. Поэты-романтики обновили теорию драмы. В 1827 г. вышел «Cromwell» Виктора Гюго, со знаменитым предисловием — манифестом романтической драмы. До середины сороковых годов новая теория оставалась в силе. Её главное значение заключается в том, что она покончила со всеми стеснительными правилами классической теории. Комические сцены стали проникать в трагедию, место действия стало свободно меняться, время действия было дозволено произвольно растягивать. Рядом с этим особое внимание было обращено на историческую правду: герои перестали быть отвлеченностями. С точки зрения эволюции драмы не было, однако, сделано ни шага вперёд. Драматическая катастрофа расплылась в повествовании. Действие, хотя и оживлённое, перестало быть строго сконцентрированным. Театр романтиков не выделил ни одного выдающегося таланта. Лучшие драмы Виктора Гюго, Казимира Делавиня и Виньи: «Hernani» (1830), «Marino Faliero» (1829), «Chatterton» (1835), «Ruy Blas» (1838) слишком походят на мелодрамы вроде «Генриха III» (1829) Александра Дюма-отца. Лучшее произведение романтической драмы, «Lorenzaccio» (1834) Мюссе, осталось без внимания. Вот почему, когда актриса Рашель добилась вновь постановки больших трагедий классического репертуара (1838), их совершенство в её исполнении стало всем вполне очевидно. Отсюда, с одной стороны, неуспех «Burgraves» Виктора Гюго, с другой — незаслуженная слава Понсара (1814—1867), автора классической трагедии «Lucrèce» (1843). Менее потрясений испытала в романтический период комедия. Освободительное влияние романтизма сказалось и тут; современность вошла в свои права, но лучший из авторов комедий в первой половине века, Скриб, не мог создать ничего более знаменательного в поэтическом отношении, как хитросплетённые интриги. Зато разрушение драматических предрассудков старины сделало возможной правильную оценку драматических сценок Мюссе, впервые разыгранных в Михайловском театре в Петербурге. Реализм XIX в. справедливо называют веком историческим, в противоположение антиисторическому веку рационализма. Историческая точка зрения и идея эволюции действительно лежат в основе философских систем и теорий, господство которых постепенно сменялось в истёкшем столетии. Длинную серию современных Ф. историков открывают Огюстен Тьерри и де Барант (1782—1866), почерпнувшие своё вдохновение у Шатобриана и Вальтера Скотта. Историком-романтиком был, до известной степени, и Мишле. Философскую и политическую школу историков составляют выдающиеся общественные деятели времён Луи-Филиппа, второй империи и первых лет третьей республики: Гизо, Минье, Тьер, Луи Блан. Отдельно стоит трудолюбивый, но неталантливый Анри Мартэн. Гизо, вместе с историком литературы Вильменом и философом Кузеном, принадлежал к числу тех красноречивых профессоров, лекции которых сослужили такую важную службу общественному самосознанию Франции в период, предшествующий июльской революции. Историк американской демократии Токвиль вводит нас в среду политических писателей, впервые сформулировавших во Франции социальные запросы нашего времени; таковы Арман Каррель, Луи Блан, Прудон, Бланки. С этого времени в необъятной политической литературе Франции, вплоть до де Мёна и Дешанеля с одной стороны и Жореса с другой, социальный вопрос стоит на первом плане. С Ренаном, Тэном и Фюстелем де Куланжем мы входим уже в современную историческую науку. Она старается заимствовать методы и приёмы у точных знаний. К середине века точные науки выдвигаются своими открытиями на первый план; XIX в. становится веком научным. Достаточно назвать такие имена, как Лаплас, Фурье, Жофруа Сент-Илер, Кювье, Клод Бернар, Пастёр, Бертло, Араго, чтобы изобразить могучий расцвет французской науки в XIX в. Позитивная философия Огюста Конта становится прежде всего систематизацией наук. Такой характер она сохраняет даже у Е. де Роберти, в противоположность Литтре и Лафиту, вышедшего из контизма на путь самостоятельных философских исканий. Центральное положение науки в современном мировоззрении оттеняют и Фуллье, и Гюйо, хотя их философия представляется скорее реакцией против узкого позитивизма и материализма пятидесятых и шестидесятых годов. Научный склад мышления отразился и на судьбах художественной литературы. Он сказался прежде всего в выборе основного вида творчества. Таким оказался роман, стоявший в стороне от всех литературно-художественных теорий. Мы видели, как постепенно ко второй половине XVIII века роман перестал быть низшим видом поэзии, служащим только развлечению, и усвоил себе серьёзные мотивы. Особое значение приобретает роман в период романтизма. Сентиментальный роман обновляется характерным для романтиков лиризмом; роман приключений также входит в новый фазис, становясь романом историческим. С приключений интерес переходит на поэтическое воспроизведение старины. В 1826 г. вышел «Cing-Mars» Альфреда де Виньи, в 1829 — «Chronique de Charles IX» Мериме. Виньи, выводя исторические личности, даёт широкий простор своему воображению; Мериме, напротив, выводит чисто вымышленные события, но ставит их в строго точную историческую обстановку. Этот последний вид исторического романа оказался наиболее распространённым. С переходом от Александра Дюма-отца к позднейшим авторам исторических романов, Эркман-Шатриану и Эрнесту Додэ, точность исторической обработки ещё усиливается. Совершенства она достигает в «Саламбо» Флобера. Развиваться далее предстояло, однако, романам другого направления. Наиболее важное историко-литературное значение имеют социальные романы Жорж Санд, романы Стендаля и «Человеческая комедия» Бальзака. Тэн в своей статье о Бальзаке назвал роман наиболее современным видом поэзии, потому что его растяжимая форма лучше всего подходит к воспроизведению всех разнообразных и осложнённых проявлений современной жизни. На почве социального и бытового романа возникла во Франции новая теория поэтического творчества — реализм. В основе её лежит не только точность воспроизведения действительности, но и особый взгляд, сообразно которому искусству вменяется в обязанность знакомить с явлениями жизни, служить познавательным потребностям не менее чем эстетически-эмоциональным. Конечный момент создания во Франции реалистической школы в поэзии отметил Сент-Бёв в своей статье о романе Флобера «Г-жа Бовари» (1857). «Я узнаю признаки новой литературы, — писал он; — наука, наблюдательность, зрелость, сила и немного жёсткости — вот что, по-видимому, составляет руководящие принципы будущих поколений». Французских реалистов долго обвиняли в слишком откровенном изображении человеческих слабостей и пороков, в сгущении мрачных красок и в отсутствии всякого стремления примириться с жизнью; корифеям реализма — Флоберу, Альфонсу Додэ, братьям Гонкурам, Эмилю Золя, Гюи де Мопассану — противополагали так называемых идеалистов — Октава Фелье, Шербюлье и Жоржа Онэ. Золя, напротив, отстаивал право поэзии так же мало щадить щепетильность читателя, как мало щадит её наука. В своём увлечении естествознанием он заменил термин реализм — натурализмом. Воображению он не хотел дать никакого простора: роман, как научное сочинение, должен быть основан на «человеческих документах». Его больше интересовала научно исследованная физиология человека, чем его психология. Сообразно этому общественное значение романа как будто сокращалось. Однако, Ф. реалистический роман никогда не переставал быть общественным; эта струя даже усиливается постепенно у самого Золя и особенно у братьев Рони и в последних романах Анатоля Франса и Мирбо. Общественное значение Ф. реализма выражается в том внимании, какое в нём уделяется низшим слоям общества. Лучший теоретик реализма, Гюйо, находит, что искусство, знакомя нас с новыми слоями общества, расширяет присущее человеку чувство симпатии. Влияние Жорж Санд столь же значительно, как и влияние Бальзака; вслед за ней крестьян изображают Фердинанд Фабр, Леон Кладель, Андре Терье, рабочих — Золя, Рони и Эстонье. В восьмидесятых годах Эдуард Род, Бурже и Баррес основали новую школу романистов. Стремясь изображать более сложные отправления человеческого сознания, они назвали себя психологами. Их затея выродилась, однако, очень быстро в простое обновление идеалистического романа. Влияние реалистической школы ограничивается романом; из поэтов ему подверглись разве Коппэ и Ришпен. Театр продолжал традицию романтиков, в несколько изменённом виде. Возвращение к классическому театру произошло не среди драматургов, а, скорее, среди ценителей поэзии. Если под влиянием Сен-Марка Жирардена и Низара драматическая теория века Людовика XIV и была вновь признана совершённой, то осуществление её оказалось невозможным. Современные Ф. драматурги — Александр Дюма-сын, Эмиль Ожье, Викторьен Сарду — сохранили замысловатую интригу Скриба, эффектность отдельных сцен и свободный строй драмы романтиков, но действие перенесли в современную жизнь. От классического театра они унаследовали нравственно-наставительный тон и известную геометрическую бедность замысла. Даже лучшие пьесы этих авторов выводят, вместо живых лиц, условные роли. Немудрёно, поэтому, что поборники реализма не удовлетворялись современным им театром. Отсюда попытки ввести реализм в театр, совершенно отбросив принцип концентрирования действия на катастрофе. За осуществление этой мысли взялся актёр Антуан. Лучшая из поставленных им подобных пьес — «La Fille Elisa» Эдмона Гонкура, имевшая недавно огромный успех. За последние годы во Франции выделилось несколько новых драматургов. В то время как Ростан, обновив все недостатки романтического театра, привлекает целые толпы зрителей, Поль Ервье, автор «Les Tenailles», перед более избранной публикой работает над дальнейшим развитием драмы. Рядом с ним стоит Франсуа де Кюрель, лучшие пьесы которого — «Les Fossiles» и «Le Repas du Lion». Недавно много шума наделал и Бриё, своей тенденциозной пьесой «L’Aliéné». Научное мировоззрение середины XIX в. привело к оживлению литературной критики. Со времени появления критических очерков Тэна начинаются попытки применить в литературной критике методы естественных наук. Теорию Тэна о влиянии на автора среды, исторического момента и расы рано умерший талантливый критик Геннекен дополнил, предложив рассматривать и влияние литературных произведений на читателей. Из теории Тэна исходит и Брюнетьер, стремящийся приложить к истории литературы теорию эволюции. Естественным последствием такой постановки вопроса оказывается строго объективное, исключительно разъясняющее отношение к поэзии. Эстетическая или общественная оценка её не может уже иметь место; однако, Брюнетьер отстаивал, противореча своим собственным основным взглядам, право критики высказывать авторам порицания или похвалы. Он полемизировал при этом с наиболее художественно чутким критиком второй половины истёкшего века, Жюлем Лемэтром, создателем, вместе с Анатолем Франсом, импрессионистической критики. Отбросив всякую попытку создать из критики науку, Лемэтр развил её как искусство. Он в этом отношении сошёлся с Гюйо, также не допускавшим мысли о создании методологии критики. Из множества современных литературных критиков выдаются Рене Думик, Эмиль Фагэ, де Вогюэ и де Визева. Символизм В 80-х годах среди молодёжи латинского квартала начинается брожение, приведшее к нарождению так называемой «новой поэзии». Главным образом под влиянием немецкой философии, проводимой профессором Бутру, и скептицизма Ренана, стройность научного мировоззрения была разрушена. Интерес к области непознаваемого возродился вновь. Только что исследованные явления внушения и гипнотизма привлекали внимание ко всему сверхъестественному. Индивидуалистическое учение Ницше начало проникать и во Францию. Народились новые мысли и новые запросы. Они потребовали новых образов и новых приёмов творчества. Искание того и другого выразилось в основании целого ряда маленьких журналов. Расширение вкусов привело к большему ознакомлению с иностранной литературой. Разысканы были и почти вовсе неизвестные в то время Верлен и Малларме. Они были признаны главами новой школы. Стихи молодого друга Верлена, Артюра Рембо, были, наконец, изданы. Стихотворения Бодлера привлекли к себе всеобщее внимание. Из всех этих скрещивающихся течений произошёл целый литературный переворот. Старый александрийский стих Гюстав Кан и Жюль Лафорг разложили на так называемый свободный стих. Вырабатывать его стали и Анри де Ренье, и Вьеле-Грифен, и бельгиец Верхарн, наиболее широкий и талантливый из всех новых поэтов. Новая поэзия, вслед за Бодлером, которого Теофиль Готье назвал «декадентом», стала себя называть тем же именем. Мореас назвал новую школу поэзии «романской». Одновременно введён был и термин символизм, наиболее подходящий к основному складу новой поэзии. Поэтов-символистов на первых порах обвиняли в неясности и противополагали в этом отношении реалистам. Этому давала повод усложнённость образов и стремление выставить на первый план область непознаваемых и бессознательных явлений. Таковы первые пьесы бельгийца Метерлинка, рассказы Анри де Ренье и романы Андре Жида. Романы поборников новой поэзии —Гюисманса, Поля Адана, Мирбо и др. — показывают, однако, что реализм скорее развит ими дальше. Вообще неясность новых поэтов объясняется трудностями поставленной ими себе задачи. По мере развития их талантов их образы становятся все внятнее. Это видно, например, из сравнения последней пьесы Метерлинка «Monna Vanna» с прежними его пьесами. Новую поэзию обвиняли в общественном безразличии; но этот упрёк также относится скорее к первым их попыткам, чем к более зрелым произведениям. Стихотворения Верхарна «Villages illusoires» и его драма «L’Aube» составляют наиболее сильные поэтические воспроизведения социального вопроса, какие до сих пор появлялись.